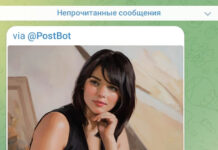(рассказ)
Морщинистые пальцы старухи мелькали со спицами, подныривали под набегающую шерстяную нить и укладывали её в хитроумное переплетение вязи. Её маленькое лицо, прикрытое крупными линзами очков, было по-птичьи вытянуто. Оттопыренные губы шевелились в такт движению рук. Изредка она прерывала своё занятие одними и теми же словами: -Уйтить ли, что ли?! Кот, что сладко жмурясь лежал возле её ног, от неожиданности вздрагивал. Щёлки его глаз мгновенно распахивались, обнажая жёлтые зрачки, недоумённо смотревшие на хозяйку. Потом они снова скрывались, как те лезвия когтей, что он прятал в своих лапах. При этом старуха взмахивала руками, как крыльями:
— Фу ты, чёрт, чистый разбойник. Гляди ты, проснулся. Ну, спи, спи, а мне чего-то не спится.
Она зевала провалом отсутствия зубов, крестилась, глядя на образа, и снова принималась за своё занятие. Что-то вроде её кольнуло. Она приподнялась, отложила недовязанный носок и прошагала в дальний угол комнаты. Там достала из шкафа, такого же старого, как и она, свёрток и понесла его на вытянутых руках.
Световая шапка падала из-под абажура на стол, куда непослушным веером ложились фотографии из свёртка, разбегаясь под пальцами. От мелькания знакомых и полузнакомых лиц начинали наплывать воспоминания о прожитой жизни. Казалось, она ловила кусочки этой жизни только для того, чтобы соединить их в одно целое, воссоздать её от начала до конца. Прожитое!… Оно словно оживало от прикосновения пальцев старой женщины. Затаённой болью отдавалось во всех уголках её сознания. Долго она сидела над фотографией молодого парня, одетого в полушубок и перепоясанного пулемётными лентами. Из-под густых бровей смотрели с весёлым задором глаза её мужа. Лихо выбивалась из-под папахи и закручивалась в вихрь прядь смоляных волос. Правая рука сжимала эфес сабли.
Она разглаживала рукой фотографию, точно желая смахнуть с неё пожелтевшую сетку времени. С надеждой продолжала отыскивать в ней что-то сокровенное, близкое, связанное с её судьбой. В глубокой тишине раздался шёпот:
— Яков, Яков, ну что мне нужно, Яков, когда нету тебя!
Фотография безмолвно смотрела на неё застывшей маской улыбающегося мужчины и молчала.
— Мне ничего и никого не надо. Вон бабы в станице говорят: ну чего, ты, Михайловна, одна на свете маешься?! Сойдись-ка с Прохором, хозяйственный, совестливый мужик. Без старухи живёт. Тоже тоскует, вам, мол, легче будет вместе прожить. — Каково легче — говорю я им.- Пусть он хоть золотой будет… Я к своего любила, а другого не хочу знать! Слышишь, Яков, так и сказала!
Яков подбадривающе продолжал улыбаться с фотографии, а она всё говорила, говорила, освобождая сердце от тех печалей и горестей, что преподносит старому человеку жизнь. Она продолжала:
— …И стоит время–времечко перед глазами , да приговаривает: « Уходить из жизни надо уже, Михайловна, засиделась ты. Ведь уже девятый десяток пошёл». А как уйти? Бывало, сын из города письмо шлёт: « Приезжай, мать, внучка заболела, а ухаживать некому». Они, знать, оба работают. Ну, я, конечно, хоть и забот полон рот, а рада. Как-никак полезность свою для людей чувствую. Теперича для этой полезности здоровья бы. Да вот же сердце болит, ноет, видно, земля своё возьмёт. А там страданий нету – знай, лежи себе спокойно…
Наперекор времени старой женщине казалось, что неподалёку, где-то рядом, заливается переборами гармошка. И словно Яков, сошедший с фотографии в ожившую вдруг картину их юности, прошагавшей по фронтам Гражданской войны, безусый парень гармонист, кричит ей: — Эх, жарь, Любаша, жарь! От нарастающего темпа плясовой захватывает дыхание. Стоявшие кругом красноармейцы, бабы, мужики и в центре сам Яшка сливаются, плывут буйством красок. В бешенный перестук каблучков вплетаются вместе со смехом частушки. И она подхватывает налету: — Капуста-вилок любит поливаться, а мой милёнок не телёнок, любит целоваться.
Её напарник, рябой красноармеец, летел по кругу за ней:
— Все идут, все идут, а моей не видно, до чего ж, товарищи, до чего ж обидно . — не оставался он в долгу.
— Вот, шельма, без устали танцует,- доносилось до её слуха. — Такая, глядишь, всю жизнь танцевать будет.
От этих слов делалось приятно. Хотелось танцевать и танцевать ей…молодой. Но подкашивались от усталости ноги. Сердце рвалось и отстукивало в груди, отчего всё труднее становилось дышать…
Свет в комнате не горел. И к глазам сразу же прихлынула темнота. Она стала гладить рукой по столу. После чего, найдя фотографию и успокоившись, попыталась встать. Пушистый комок, жалобно мяукнув, спрыгнул с сухих её колен, мелькнул и пропал в темноте.
— Сейчас, сейчас, кот, ишь ты, погулять захотел.
Старуха, кряхтя, поднялась из-за стола. Ноги и руки с трудом слушались её. Наконец, рука уперлась в шероховатую стенку. Движенье вверх- и она нащупала за печкой коробок спичек, отыскала керосиновую лампу. Через минуту, с жадностью лизнув стекло, засветился язычок пламени.
Постепенно огонь вырезал из темноты фигуру сгорбленной над столом старухи. Руки её лежали, как сучковатые ветки старого карагача и чуть подёргивались в кистях. Одна из них поднялась с фотографией, замерла на какой-то миг в воздухе и с глухим стуком ударилась об стол.
— Слышишь, Яков, давай жарь плясовую, — словно со стороны услышала она свой шёпот. Старая женщина вздрогнула от произнесённого ею последнего слова. Повторила его вновь. Её невидящий взгляд был направлен теперь уже мимо фотографии, в окно, куда заглядывали сугробы. А дальше за ними – новые цепочки подкрадывающихся к окну холмиков, что сливались в необозримую равнину снежного безмолвия. Лёгкий ветерок сдувал снежинки с сугробов и, ударяя их об оконное стекло, превращал в искорки.
…Превращал в воспоминания.
1972г. г. Хадыженск